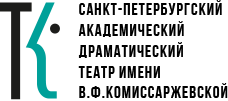Из интервью с Галиной Петровной Короткевич:
Разговор о жизни, судьбе и профессии:
Про актрису:
У меня такое ощущение, что я еще не родилась, но уже знала, что буду актрисой. Моя бабушка дарила мне большие куклы, и до школьного возраста я их сажала на диван и перед ними танцевала, пела, кланялась, а потом подходила к ним и их руками хлопала, потом обратно кланялась… Потом, лет в 8-9, меня отдали заниматься на пианино, но попался очень неудачный молодой учитель… Но нотную грамоту я знаю, могу разобрать и басовый ключ, и скрипичный, подбирать легкие мелодии. Очевидно, от отца и мамы что-то передалось.
Танцы:
Танцевала я с 7 или 8 лет в студии Дворца культуры им.Горького у Нарвских ворот, и руководил этой студией народный артист РСФСР Фенстер Борис Александрович (потом он был руководителем балетной студии Мариинского театра). На всю жизнь осталась в памяти моя первая фотография в «Ленинградской правде», когда наш коллектив выступал в Большом зале Филармонии и занял первое место среди самодеятельных кружков. Я танцевала «Вальс цветов» и один испанский танец. Как-то наш педагог Борис Аалександрович, предварительно договорившись в хореографическом училище, повел меня туда показываться. Тогда я училась в 8 классе общеобразовательной школы и должна была поступить в Вагановское училище в 7 класс. Мы с ним встретились на трамвайной остановке, дошли до Екатерининского сада, а я с туфельками под мышкой все медленнее и медленнее иду… Он предложил мне посидеть минутку, а сам пошел покупать мороженое (у Екатерининского сада всегда мороженое продают). Когда он вернулся, я заплакала: «Борис Александрович, я не хочу всю жизнь танцевать, я хочу всяких разных девушек играть всю жизнь…» — «Каких девушек?» – «Я хочу играть всяких людей, а танцевать всю жизнь не хочу!» — и тогда он меня успокоил и сказал, что сам это почувствовал. Мы посидели, съели мороженое и он произнес: «Желаю тебе успеха. Будешь артисткой – позвони…». Сейчас его, к сожалению, уже нет в живых, но я позвонила потом, после войны и пригласила на спектакль.
Про родителей:
Внешне я похожа на папу. Он был талантливым скрипачом, с отличием окончил Ленинградскую Консерваторию. При этом папа был очень симпатичным и чрезвычайно легкомысленным человеком. Мама смогла прожить с ним всего один год. Были тяжелые времена НЭПа, его звали в оркестр Мариинского театра, но он согласился пойти в ресторан в качестве руководителя оркестра и первой скрипки. Естественно, все очень быстро закончилось, потому что с его внешностью, шармом и профессионализмом он всегда был зван «к столу». Мама меня родила в 21, а когда мне исполнился всего год, мама от него ушла. До 8 лет, включая первый класс школы, я была с бабушкой, училась в первом классе за Невской заставой, потому что мама много работала в театре, а со второго класса уже жила с мамой и ходила в школу на Невском проспекте.
Мама у меня была артисткой оперетты — она также, как и папа, окончила Ленинградскую Консерваторию. Ее хорошо знал и прекрасно к ней относился мой друг Александр Белинский. Мой отчим, заслуженный артист РСФСР Геннадий Львович Легков, работал в нашем театре, в котором работаю сейчас я. Он был красив и считался очень хорошим артистом. С мамой они прожили довольно много лет до войны, в войну он уехал вместе с эвакуированным театром, а мы с мамой остались здесь, в Ленинграде.
Поступление:
В Театральный институт я поступила перед войной: набирали два замечательных педагога: Сушкевич Борис Михайлович (он в то время был директором нашего института) и Вивьен Леонид Сергеевич. Оба они руководили курсами в институте. Я прекрасно помню лестницу, где стоял бюст Ленина, 5 аудиторию, где сдавали выпускные экзамены. Третий тур на поступлении мы показывались там, а в зале сидели студенты и комиссия. Нас слушали «пятерками». Рядом со мной сидела девочка Лида Штыкан, которая была невероятной красоты. Я все на нее смотрела и даже забыла, что поступаю… Когда подошла моя очередь, я что-то прочитала, а потом нужно было спеть, но я не могла найти ноты, на которых сидела. «Ой, — говорю, — у меня тут были ноты» – зал как грохнет в хохоте… «А что случилось?» – они опять…Комиссия сжалилась: девочка, ты там посмотри, тише, товарищи, тише! В большом волнении я на карачках влезла на эту скамейку. В общем, еле спела…А потом попросили станцевать – а что для меня станцевать? Мне говорят – хватит, а я — еще не все! Конечно, это от волнения…
Уже когда мы поступили, старшекурсники нам рассказывали, что и я, и Лида Штыкан попали и к обоим мастерам: Лида — к Вивьену, а я — к Сушкевичу. Основным педагогом у нас была Ода Израилевна Альшиц. А после окончания первого курса началась война…
Про блокаду, театр и память:
В первый день войны мне сразу позвонили из института, поскольку знали, что я танцую, чтобы записать во фронтовую бригаду. Я тогда окончила 1 курс и помогала нашему педагогу по танцам Христерстону Христиану Христиановичу (этот учитель танцев – целая легенда Театрального института).
По всему Ленинграду люди сажали грядки, чтобы как-то прокормиться: в Александровском саду, где много земли, а деревьев мало, все было в грядках. И весь Казанский собор, а на каждой грядке стояла дощечка с фамилией. Сажали не картошку, а шкурки картошки с отростками или семена, у кого случайно остались… Давали одну только грядку, но никто никогда не воровал, хотя все было открыто, сторожей или дежурных не было. Говорят, что в горе Бог дает силы, а несчастье порой не разъединяет, не озлобляет людей, а наоборот — прививает какое-то душевное благородство…Это очень ценно для нашего Ленинграда, для людей, которые тогда жили – та степень душевного благородства.
Люди, которые не знали войны, могут понять пережитое нами только умозрительно. А театр, в котором я работаю, в этом отношении уникальный: именно сюда приходили люди с фронта и уходили прямо на фронт. Многие из тех бойцов, может, и увидели-то всего один спектакль за свою жизнь, но для них это был памятный и прекрасный спектакль: будь то «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» Л. Леонова, или «Фронт» Корнейчука. И актеры, и зрители жили на карточки с постоянным ощущением голода – это не передать. Дай Бог никогда этого больше не чувствовать. Кто выжил – выжил чудом.
Военный период блокады привил работникам нашего театра особую атмосферу, единение, когда делились и кусочком хлеба, и теплом, и готовы были помочь друг другу. А это переходило в творчество. В нашем театре была особая атмосфера даже после войны, когда и цеха — гримерный, костюмерный, реквизиторский — и актеры любого положения жили единой семьей, потому что все осознавали цену этой жизни и самоотдачи. К великому счастью, Рубен Сергеевич Агамирзян сумел сохранить это особое единение творческого начала и человечности. Самое страшное, что может быть в человеке, — это забвение своей истории.
Про любовь:
В этом отношении я очень «поздняя». За мной ухаживал парень старше меня двумя классами – он погиб. Еще один парень меня встречал и провожал на занятия, но я так была увлечена искусством, что мне не до этого было. Еще был лейтенант Игорь Косов, которого я встретила на фронте. Я даже один раз с ним поцеловалась как-то по-детски. Спустя несколько лет после войны он мне звонил из Москвы, сказал, что женился, а я порадовалась за него. Встретиться нам так и не удалось…
В блокаду у нас в доме на Невском от бомбы были выбиты стекла в окнах, и там нельзя было жить. Мы располагались с бригадой в Доме Офицеров. И там был человек, который нам очень помог – Александр Наумович Авербух. Он был звукооператором, руководил студией, которая организовывала запись «звуковых» писем на рентгеновских снимках. Он ездил по военным частям и на своем аппарате записывал на специальных пластинках-«ребрах» письма бойцов домой. Тогда это было очень дорого и важно – получить живой и родной голос… Александр Наумович был старше меня на 13 лет, у него были пластинки с Вертинским, пленки на ребрах-снимках, я там пропадала много времени, а потом так и осталась с ним, и мы прожили 8 лет.
Про глаза:
Про себя я могу сказать, что не отличаюсь какой-то особенной внешностью. Но если с юмором, то «никогда не была красивой, но всю жизнь была чертовски мила!» Сначала, когда я пришла в театр, некоторые актрисы меня спрашивали, чем я смазываю глаза и почему они так блестят.. Вначале я совершенно искренно говорила, что никаких специальных кремов нет, только грим, и вообще глаза нельзя трогать. А когда стали настаивать, я загадочно говорила, что у меня есть тайное средство, но я его никому не открою! А сама подойду к зеркалу – и ничего особенного не вижу…