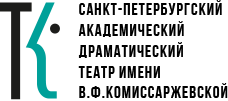ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ….
И пусть не думают,
Что мертвые не слышат,
Когда о них живые говорят». (Н.Майоров)
9 мая Театр им.В.Ф.Комиссаржевской вместе с родным городом и всей страной отметит день Победы. В этот день по традиции театр поздравит своих ветеранов и детей войны, среди которых — народные артисты России Галина Короткевич и Иван Краско, работники театра, а также участники войны и жители блокадного Ленинграда, кто служил театру в разные годы.
Вечером состоятся спектакли «Утоли моя печали…» петербургского драматурга С.Буранова и «Про Любовь» по рассказам В.М.Шукшина. В спектакле «Утоли моя печали…» одну из ролей исполнит народная артистка Галина Короткевич, творческий путь которой начался в военно-фронтовой бригаде. Она выступала перед бойцами Ладожской флотилии, на Волховском, Ленинградском, Карельском фронтах, выезжала на самые трудные участки передовой, давала концерты в воинских частях у Пулковских высот, во время боев под Синявино, на Ладоге, на «Дороге Жизни». В составе бригады актриса дала более двух тысяч концертов для солдат, сражавшихся за Ленинград.
Иван Краско: Обычно в этот день меня всегда приглашают на концерты, выступления, но в этом году у нас в театре спектакль «Утоли моя печали» — и я этому очень рад. В спектакле речь идет о некоем дяде Курте, который служил в немецкой армии. Мой герой все шутит, что у него хорошая пенсия – не за Курскую ли получил? В конце спектакля мой герой Санин говорит своему внуку, который избегает встреч с этим дядей, потому что его больше к русскому деду тянет: «Сходи ты к этому дяде Курту – что сейчас виноватых искать…». Этот спектакль о доброте, о душе человеческой, о том, что все должны помнить.
В культурном пространстве нашего города Театр им. В.Ф.Комиссаржевской имеет особое значение. В середине Х1Х в. на Невском проспекте купцы построили Пассаж с Концертным залом, с 1904 по 1906 г. — здесь был театр Веры Федоровны Комиссаржевской, чье имя он носит с 1959 года, до начала блокады здесь был театр Сергея Радлова. В октябре 1942 года в осажденном городе открылся новый Городской театр, труппу которого составили артисты Радиокомитета и Театр возглавил С. Морщихин. Позже труппа пополнилась актерами Нового ТЮЗа и агитвзвода Дома Красной Армии. Когда газета «Правда» опубликовала пьесу К. Симонова «Русские люди», прозвучавшую на Ленинградском радио, — посыпались письма с просьбой повторить, и тогда спектакль перенесли на сцену. Так родился Городской театр, который зрители почти сразу окрестили Блокадным.
Спектакли начинались в 17 часов, чтобы зрители успели вернуться домой до комендантского часа. Если начинался артобстрел, все спускались в бомбоубежище, потом возвращались на свои места, и спектакль продолжался. Если гас свет, зрители направляли свои фонарики на сцену – и под этим освещением шел спектакль. Во время блокады здесь шли спектакли: «Русские люди» и «Жди меня» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» Л. Леонова, «Женитьба Белугина» А. Островского, «Олеко Дундич» А. Ржешевского и М. Кац.
«Театр уникален тем, что родился, когда кругом была смерть, холод, голод, бомбежки. И вот те люди – артисты, которые остались в осажденном городе, по разным причинам, испытывали мучение, как и все, и вдруг, это остается загадкой, объединились, нашли в себе силы для того, чтобы репетировать и играть спектакли. Это же – чудо!!! Даже только одно это должно вас греть, вдохновлять и беречь театр» (Народный артист СССР Иван Дмитриев).
Трудно сегодня установить, каким был тот первый спектакль, как вообще жил коллектив, как протекала ежедневная работа. По отдельным документам известно, что Начальник Управления тыла Ленинградского фронта генерал Лагунов прикрепил для помощи театру строительную воинскую часть, которая принимала самое деятельное участие в расчистках помещения. Все необходимые материалы выделил Горисполком. Днем актеры занимались уборкой, мытьем, чисткой, перебирали реквизит, костюмы, а вечером — репетиции, спектакли. Утром шли шефские спектакли для воинов-фронтовиков, а также для рабочих оборонных заводов, иногда выезжали во Дворцы культуры и там показывали спектакли, которые шли параллельно со стационаром. Кроме того, артисты театра выезжали со спектаклями в военные госпитали и на линию фронта. Спектакли, поставленные на сцене Комиссаржевки под бомбежками и артобстрелами, доказали, что музы не молчат и в те дни, когда говорят пушки. Именно поэтому, несмотря на многочисленные переименования — Ленинградский театр, театр имени Комиссаржевской — в памяти петербуржцев этот театр навсегда останется «Блокадным театром».
Увы, время беспощадно – до наших дней не дожил ни один актер Блокадного театра. Но его традиции до сих пор бережно хранят. В театре до сих пор играет народная артистка Галина Короткевич – она, правда, не работала в Блокадном театре, но была активной участницей фронтовых бригад. Война прервала ее учебу в театральном институте на Моховой, и по путевке комсомола Галина Петровна поступила в концертную бригаду при Ленинградском доме Красной Армии.
Сегодня в репертуаре нашего театра несколько спектаклей, где звучат отголоски ВОВ: «Ночь Гельвера» И.Вилквиста, «Графоман» А.Володина в постановке А.Баргмана, «Бесконечный апрель» Я.Пулинович в постановке И.Латышева, «Утоли моя печали…» С.Буранова в постановке Г.Корольука.
Народная артистка России, актриса Театра им.В.Ф.Комиссаржевской ГАЛИНА КОРОТКЕВИЧ:
В 1941 году я окончила первый курс. В день объявления войны из дома, в котором мы жили, нас должны были забрать для отправки в колхозы. Когда мы услышали объявление, мама сказала: «Срочно поезжай в институт». Что при этом я испытывала? Ничего. Ведь перспективно никто не может сказать, что будет блокада, что у тебя будет вторая стадия дистрофии, что ты можешь выжить, а можешь умереть. В институте меня срочно направили в Комитет комсомола, где формировалась концертная бригада. Мое детство было тесно связано с танцами, поэтому было решено, что я тоже войду в концертную бригаду института в качестве танцовщицы. Бригада была сформирована из старшекурсников, в том числе и 4 курс моего педагога Сушкевича. И с этой бригадой старшекурсников мы стали ездить по мобилизационным пунктам. Играли различные драматические отрывки и комедийные куски. Наша бригада была единственной из театрального института. Потом появились бригады из Консерватории, но всю блокаду работала только наша. С моего курса почти все погибли – осталось трое. Когда мы вернулись в институт, это был третий сборный фронтовой курс. Преподавала Бромлей Надежда Николаевна. И даже после возвращения нашего института Дом Офицеров продолжал быть у меня на первом месте – меня часто вызывали на концерты.
Думаю, что наш театр имеет столь человечную ауру потому, что рожден в блокаду. Сужу по собственному опыту. Огромный след в моей душе оставила война и работа на Ленинградском фронте. Человеколюбие, отдача зрителю — все оттуда, Теперь трудно представить, как я танцевала перед солдатами в 40-градусные морозы в легком платьице на передовой. Такое не забывается… Люди, которые не знали войны, (как понять зубную боль чужого человека?), могут понять пережитое нами лишь умозрительно. Но то, что было, — это феноменально. Это уникальный театр, который нес слово бойцам и защитникам города, театр, в который приходили люди с фронта и уходили прямо па фронт. Многие из тех бойцов, может, и увидели-то всего один спектакль, но это был нужный и прекрасный спектакль, согревающий душу и поддерживающий дух: «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» Л. Леонова, «Фронт» Корнейчука. Люди-дистрофики приходили в театр, чтобы согреться душой и понять, что они не одиноки. Теряли сознание от голода не только зрители, актеры жили на те же карточки. Были искренность и чистота помыслов, это было то особенное, о чем забывать грех. Это самое главное.
Военный период привил работникам нашего театра особую атмосферу, особый стиль и единение, когда все делились и кусочком хлеба, и теплом, и готовы были помочь друг другу. А это переходило в творчество. В нашем театре была особая атмосфера даже после войны, когда и цеха — гримерный, костюмерный, реквизиторский, и актеры всех рангов жили единой семьей, потому что все осознавали цену этой жизни. Людям, не знающим нашей профессии, она кажется очень простой и доступной — подумаешь, вышел, сказал, постоял на сцене и ушел. А это огромный труд. Когда в холоднейшем помещении со скрюченными пальцами, в варежках — репетировали, а потом выходили в открытых платьях на премьеру. Так и мы на фронте с бригадой Театрального института — я была одна с первого курса, остальные — старшекурсники — выступали при любой погоде — в дождь, снег, мороз. И никто не простужался, — так напряжены были наши нервы. Молодость бесстрашна. То, что было тогда обыденным, сегодня воспринимается невероятным: сегодня не понять, как можно было такое вынести.
К великому счастью, Рубен Сергеевич Агамирзян сумел сохранить этот стиль, — стиль особого единения творческого и человеческого начал. Все понимали, что без внимания не бывают радостными ни творчество, ни жизнь, и что у человека должна быть радость, и что восполняется эта радость вниманием и стимулом к жизни. Вот что сумел сохранить Рубен Сергеевич. Он говорил, пока жив, всегда будет существовать в репертуаре театра военная тема. И его последней постановкой был замечательный спектакль «Дневник Анны Франк», во время репетиций которого он умер. Самое страшное, что может быть в человеке, — это забвение своей истории. Забыть — значит, не жить сейчас, значит, не быть в будущем. Нельзя забывать ни прекрасного, ни ужасного. Нельзя забыть пережитых потерь. И то, что было сделано в войну — забыть нельзя. Поэтому роль Блокадного театра для жизни города не переоценить.
Война многому научила. На первом месте – человек, независимо от возраста, от положения и от значимости. И вот это ощущение человечности передалось на всю жизнь. Для меня не существует ни званий, богатств, для меня ничего этого при человеке не существует. Какой человек, какая душа – это главное. Он может быть солдатом – великим, и генералом – подленьким. Главное – душа. Порядочность, понимание горя, беды и радости. И радости другого – что не каждый может вынести.
Есть такое поверье: как только люди забудут войну – она начнется снова. Надеюсь, этого не случится…
Народный артист России, актер театра им.В.Ф.Комиссаржевской ИВАН КРАСКО:
В 1941 году мне было уже 10 лет. Я жил у бабушки Поли с 6 лет в Вартемягах (мама умерла от заражения крови, когда мне было всего 10 месяцев, потом не стало отца), и мы вели натуральное хозяйство. Жизнь была трудная, зато приучала к ежедневному, постоянному труду. Когда объявили о начале войны, ребятня сначала отнеслась к происходящему по-детски легкомысленно: играли в войну, «били» фашистов. Только после первых похоронок мы стали понимать, что происходит что-то страшное. Да и деревня наша опустела: всех мужчин забрали в армию. Потом опустели и полки в магазинах, ввели карточки. Всю войну мы прожили в Вартемягах, там блокада переживалась легче, чем в городе – у нас была и картошка, и молоко. Бабушка торговала молоком на Бассейном рынке в Ленинграде, добиралась пешком или на попутках, тащила на себе по 30 литров молока, а обратно привозила хлеб, сахар.
Линия фронта была совсем неподалеку, и брат Василий ушел в сыновья полка. Вскоре пришел командир спросить разрешения у бабушки. Увидел, что у нас тепло и попросил пустить на несколько дней фронтового художника. Тот красиво рисовал: расчертил Сталина на открытке на клеточки и перерисовывал, пришел политрук, сравнил вождя на двух картинках и спрашивает, почему в газете тот худее. Так война же, — отвечает художник. Баба Поля ахнула: даже Сталину тяжело. А потом художника за это объявили врагом народа и расстреляли.
Школьниками мы пропалывали огороды – морковку, свеклу. Получил награду как передовик производства – банку желтой консервированной черешни. Принес домой, а баба Поля обомлела – она черешни никогда не ела. И я до этого ничего вкуснее не едал. Иногда приезжали отощавшие люди из города – просили милостыню, мы только тогда узнали такое страшное слово «дистрофик». К весне картошечка кончалась и у нас: собирали крапиву, лебеду. Была одна забота – выжить.
Приходишь в сельмаг, предъявляешь карточки на сахар, а продавщица говорит: «Ванюшка, милый, сахара-то нет, могу селедку дать». Блокадная селедка была не такой, как сейчас, — ржавая, сухая. Принес ее домой, вскипятили чай и пили вприкуску с рыбой. И я удивился, как это вкусно! Даже своеобразная сладость получалась….
Когда объявили о победе, на всю деревню играли марши, а мы только перебирали, кто жив остался. У всех было только ожидание: придут ли домой.
Этот день, 9 мая, для меня и, думаю, для очень многих, – святой день. Я помню 9 Мая 1945 – народ ликовал, рассвет был и в душах, и на лицах людей. Я братьев своих ждал средних – Васю и Николая. Один был призван в 1942 году, а второй стал сыном полка… Так что для меня это настолько кровное, родное и близкое – освобождение от этой страшной войны…Обычно в этот день меня всегда приглашают на концерты, выступления, но в этом году у нас в театре спектакль «Утоли моя печали» — и я этому очень рад. В спектакле речь идет о неком дяде Курте, который тоже служил. Мой герой все шутит, что у него хорошая пенсия – не за Курскую ли получил? В конце спектакля мой герой Санин говорит своему внуку, который избегает встреч с этим дядей, потому что его больше к русскому деду тянет: «Сходи ты к этому дяде Курту – что сейчас виноватых искать…». Этот спектакль о доброте, о душе человеческой, о том, что все должны помнить.
И каждый год меня поздравляют все, кто моложе меня. И у меня тоже есть удостоверение ветерана ВОВ, несмотря на то, что когда война началась, мне было 10 лет. Мы с бабой Полей, когда братья ушли на войну, помогали, как могли, старались делать все, что в наших силах было: встречали дистрофиков из Ленинграда (тогда и слово это впервые услышали), останавливались у нас красноармейцы – мы их выхаживали. Я хочу, чтобы праздник Победы никогда не забывался. Не дай Бог, чтобы сегодня была война…
Хроника и воспоминания разных лет о Блокадном театре:
Из воспоминаний актера Блокадного театра Александра Янкевского:
1942 год. Второй год Великой отечественной войны. Ленинград в блокаде. Голод, холод, отсутствие света, бомбежки, артиллерийские обстрелы. На стенах домов и заборах надписи: «Во время артиллерийского обстрела эта сторона наиболее опасна» и короткие плакаты из трех слов: «Враг у ворот». В центральной «правде» из номера номер начали печатать отрывки новой пьесы К.Симонова «Русские люди». Группа работников Ленинградского радио: Зонне, Горин, Петрова, Ярмагаев, Миронов, Янкевский во главе с Я.Бабушкиным берет на себя инициативу создания радиоспектакля по этой пьесе. Актеров мало, каждому приходится играть по несколько ролей. Спектакль готов. В бывшей 5-й студии радиокомитета поставлены столы, стулья, микрофоны. Приглашена авторитетная комиссия из представителей городских партийных и советских организаций для приема спектакля.
Результат просмотра — решение создать в блокированном Ленинграде драматический театр с труппой из имеющихся в городе актеров, художественный руководитель С. А. Морщихин.
Все театры к тому времени, за исключением театра Музыкальной комедии, были эвакуированы вглубь страны. Нам дали помещение театра Комедии. Оно было запущенное, сырое, холодное. Пришлось самим, засучив рукава, приводить его в порядок. Все готов, на фасаде здания вывеска: «Городской театр».
И вот 18 октября 1942 года открылись двери нашего театра для фронтовиков героя-Ленинграда. Идет поставленный Зоне и Гориным спектакль «Русские люди». И в зале тоже русские люди в ватниках, шинелях, с автоматами – прямо с фронта или прямо на фронт. Спектакль прочно вошел в репертуар театра и пользовался неизменным успехом у зрителя.
Однажды вовремя 1-го акта начался артиллерийский обстрел района. Поблизости ухнул снаряд и погас свет. Сцена и зрительный зал погрузились в тьму. Но не произошло никакой паники. Только небольшое замешательство на сцене: «Что делать?» «Как играть дальше?». И вдруг из тьмы зрительного зала на сцену прорезался яркий лучик карманного фонарика, за ним 2-й, 3-й, 5, 10-й.. — они возникали, как звезды на небе. Свет массы карманных и аккумуляторных фонарей дал возможность доиграть акт до конца. Да, такое не забудется никогда! В антракте загорелся городской электрический свет.
5 ноября 1942 года состоялась премьера спектакля «Фронт» Корнейчука, поставленного Морщихиным и Зонне. На одном из спектаклей во время второго акта опять во время обстрела погас свет. На этот раз актеры без всякого замешательства ждали помощи из зрительного зала. И помощь пришла: друзья-фонарики вспыхнули, спектакль продолжался.
Затем 31 января 1943 года — «Нашествие» Л.Леонова. Режиссер Морщихин. 11 апреля 1943 г. «Жди меня» К.Симонова, режиссер М.С.Павликов. Павликов был человеком ярких эмоций и высокоодаренным артистом. Он внес большой творческий вклад в наше общее дело. К этом времени в труппе театра — Чернявская, Курзнер, Алексеева Людмила Петровна, Хавский, а также мастера театр им. Пушкина — Стрешнева, Домашева, Левицкий, Андриевкий, Нелидов, Горин-Горяинов, Назаров, Горич и др. Декорации к спектаклю «Жди меня» делали сами. Весь коллектив, вооружившись столярными, малярными и плотницкими инструментами, по ночам трудился над оформлением спектакля.
В июне 1943 г. наша труппа пополнилась артистами, пришедшими в шинелях из агитвзвода Дома Красной Армии в составе: Усков, Никитин, Мойковский, Поначевный, Швец, Яйцовская, Глухова, Костричкин, Мазаев, Сафронова, В.Н.Лебедев, ставший художественным руководителем театра.
Осенью 1943 года в помещении театра «Комедии» играть стало невозможно, т.к. здание не имеет бомбоубежища, а бомбежки и обстрелы стали еще коварнее. Театр переведен в помещение Малого оперного театра и получил название «Ленинградский драматический театр».
Идут спектакли — «Женитьба Бальзаминова», реж. Андриевский, «Олеко Дундич», реж. Лебедев, «Вечер водевилей», реж. Усков, «Обрыв», реж. Лебедев.
Осенью 1944 года нам дали помещение, в котором мы находимся и по сей день. Здание в годы блокады не отапливалось, покрылось плесенью, штукатурка обвалилась. Опять весь коллектив своими руками отремонтировал и подготовил здание к открытию.
23 ноября 1944 года состоялась премьера спектакля «Нахлебник» Тургенева в постановке А.В.Соколова. Спектакль получил высокую оценку. На зрительской конференции, организованной театром, отмечалась прекрасная работа режиссера и исполнителей, ансамблевость, хорошая разработка и исполнение массовых сцен.
В начале 1945 г. к нам пришло еще пополнение из театра Краснознаменного Балтийского Флота – Честноков, Самойлов, Иван Дмитриев, Аскинази, Дельвин.
Я прошу извинения у тех товарищей, пришедших к нам по одиночке в разное время, фамилии которых я не упомянул.
12 апреля 1945 г. вышел спектакль «Поздняя любовь», поставленный А. В.Соколовым, прошедший с успехом более 300 раз.
9 мая 1945 года окончилась война. Ленинград облегченно вздохнул и зажил мирной трудовой жизнью. Вернулись в город все эвакуированные театры, и наш театр вступил в новый этап своей жизни…
Из дневников поэта Ольги Берггольц:
Письма, которые получила я зимой 1941/32 года на свои передачи, останутся для меня на свою жизнь самой высокой наградой. Из этих передач — «Чтения с продолжением» — постепенно родился «Театр у микрофона». У микрофона артисты радиокомитета стали разыгрывать целые пьесы, преодолевая голод, слабость, быструю утомляемость. Репетировали по частям печатавшуюся в «Правде» пьесу А. Корнейчука «Фронт», затем исполняли ее перед микрофоном, затем, некоторое время спустя, перенесли на сцену. Так, к концу сорок второго года, из артистов радиокомитетского «Театр у микрофона» и артистов 1-й фронтовой агитбригады в осажденном городе родился под вой и свист снарядов и бомб) без всякого метафорического преувеличения – увы!) новый театр, где все, от режиссера В.Мойковского, артиста А.Янкевского до рабочих сцены, были самыми подлинными и рядовыми защитниками Ленинграда. Театр успешно работал, А в 1962 году он отметил свое двадцатилетие – он называется теперь театром имени Комиссаржевской, он популярен и любим не только в Ленинграде, но и в стране, по городам которой ежегодно дает гастроли с неизменным успехом. Я счастлива, что вот уже третий год в репертуаре этого театра есть и моя пьеса – о самых суровых днях блокады, об ее героической и трагической зиме 1941/42 года, что в одном эпизоде звучит мой голос – пленка сохранившегося чудом выступления перед новым 1942 годом.
Пьеса называется «Рождены в Ленинграде». На премьеру ее все артисты и работники театра, не сговариваясь, и – что самое удивительное и трогательное — множество зрителей пришли с медалями «За оборону Ленинграда». Не ради пустого хвастовства говорю я это, но для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, как умеет хранить город-герой свои революционные и боевые традиции — хранить не умственно, а всем сердцем. А на юбилее «Блокадного театра» в октябре 1962 года многих и многих пришлось помянуть нам добрым словом и вставанием, и все с глубоким душевным трепетом вспоминали славные и смертоносные, но непобедимые дни «Театр у микрофона»…(Изд. Художественная литература» ЛО. Л. 1967. с. 136-137. )
Из беседы с директором Блокадного театра Барским Акимом Анисимовичем.
— В начале мая вызвал меня Борис Иванович Загурский, он был тогда начальником Управления по делам искусств, и говорит: «ленинградское радио подготовило спектакль «Русские люди» и в скором времени будут предавать его по радио. У партийных органов есть мнение показать спектакль в живом виде. Займитесь, Аким Анисимович, созданием театра».
В первых числах сентября 1942 года произошло организационное совещание в Управлении по делам искусств (Управление помещалось в здании БДТ). Присутствовали: Загурский, Стрешнева, Павликов, Горин, Зоне, Морщихин, Барский и другие. Директором назначен был Барский, главным режиссером Морщихин.
14 сентября 1942 года был издан приказ об откомандировании творческих работников, оставшихся в блокированном Ленинграде, во вновь организуемый театр. Имена многих из них были хорошо известны зрителям по работе в Пушкинском театре: Горин-Горяинов, Студенцов, Домашева, Стрешнева, Андриевский, Нелидов, Железнова и др.
Из беседы с Тамарой Константиновной Чистяковой, работавшей в войну и много лет спустя осветителем театра им. В.Ф.Комиссаржевской
«Мы были молодые, голодные, холодные, не топили, репетировали в пальто, курили самосад, чтобы заглушить голод. Дружные были люди — утром все вместе – и артисты, и технические работники занимались ремонтом, а вечером шли репетиции. Если кто терял карточку – помогали. Работали и не думали о смерти. В домах электроэнергии не было, а в театре давали. Мы, конечно, экономили. Декорации строил легкие, задники писались на материале, колонны легкие досок было мало. Но декорации был очень красивые»
Газета «Известия» 18 октября 1942 года – из рецензии на спектакль «Русские люди»: «Когда партизан Глоба уходит в тыл к врагу, широкая, вольная песня удаляется вместе с ним. Презрение к смерти, непобедимая сила жизни звучит в этом напеве. Ленинградцы знают имена своих героев. Так шел на подвиг боец Суханов, прикрывший своим телом амбразуру вражеского дзота. Так под гусеницами танка погиб пулеметчик Смирнов, до последней минуты расстреливая гитлеровцев.
Театральный коллектив, поставивший этот патриотический спектакль, возник недавно. Его актеры связали свою работу с боевой работой города и ленинградского фронта. Это обеспечило участникам коллектива широту и богатство наблюдений».
Письмо бойцов:
Дорогие товарищи! Мы, раненые бойцы и офицеры горячо благодарим Вас за концерт, который вы дали нам сегодня и верим, что Вы и впредь не будете забывать нас, защитников славного города Ленина. Мы, лежащие здесь в госпитале, прибыли с различных ФРОНТОВ НАШЕЙ Родины и видим, что город-герой – колыбель пролетарской революции, живет полной кипучей жизнью. Вдохновленные вашим искусством, мы придя на фронт, будем бить врага с тройным остервенением и мужеством, пронесем в своих сердцах ,сквозь дым и порох войны, созданные вами образы, ибо мы и вы, исполняя волю партии и народа, каждые в своем искусстве служили Родине до последнего вздоха… мы клянемся вам, что в скором будущем немецким захватчикам, стоящим пор Ленинградом, будет нанесен последний сокрушительный удар так, что ни один гад не уйдет с нашей родной ленинградской земли! Мы идем и будем идти в ногу с вами, лучшими представителями советского искусства, до полного истребления врага, и счастливой будущей жизни.
Да здравствуют представители советского искусства, вдохновляющие воинов Красной Армии и весь советский народ на ратные подвиги! Да здравствует дружба всего Советского народа, кующая победу над врагом!» 20 ноября 1943 г.
Резолюция, принятая на общем собрании работников Ленинградского Городского театра 15 декабря 1942г.
Мы, работники Ленинградского Городского театра, обсудив на общем собрании обращение члена нашего коллектива, заслуженной артистки РСФР В.Р.Стрешневой, присоединяемся к ее предложению об открытии среди работников искусств Ленинграда сбора средств на постройку самолета.
Кроме индивидуальной подписки среди работников театра, даем два внеплановых спектакля, весь сбор с которых вносим на постройку самолета. Вызываем присоединиться к инициативе нашего театра всех работников искусств г. Ленинграда.
РИА «Новости», 2005
В субботу, 7 мая 2005, в Петербурге состоялась церемония вручения коллективу театра имени Веры Комиссаржевской орденского медальона солдатского подвига. Награда была выполнена по эскизу героя СССР, генерал-лейтенанта Михаила Калашникова, сообщили РИА «Новости» в городском комитете по культуре. Руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков рассказал, что после церемонии будет представлена премьера спектакля «Это было недавно, это было давно», созданного ко дню Победы.
2014
27 января 2014 года театр представил горожанам спектакль-концерт, посвященный 70-летию полного освобождения от фашистской блокады: «О тех, кого помним и любим». В исполнении артистов Драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской прозвучали воспоминания О.Бергольц, А.Дельвин, Е.Копеляна, А.Рахленко, А.Бениаминова, стихи и песни той поры, а также были исполнены отрывки из пьес А. Кравцова «Новоселье в старом доме» («27 января») и К.Симонова «Русские люди».
2015 – концерт, посвященный Дню Победы – «О тех, кого любим и помним…»